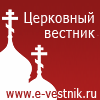Люди, которые постоянно сталкиваются со смертью, более того, стараются сделать все возможное, чтобы переход из одного мира в другой был достойным. Среди них — Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
— Со смертью человек впервые обычно сталкивается в детстве. Как было у вас?
— Мне было года четыре. Умер наш сосед в деревне в Ярославской области, где мы жили каждое лето, девяностолетний дедушка Миша. Он был уже глухой, ходил с палочкой, зимой и летом, даже в самую жару, не снимал ушанку и валенки.
В деревне отношение к смерти было такое, каким оно, наверное, и должно быть. Соседи стали тут же приходить к дому, исполняли все, что положено: обмывали, готовились к прощанию, всей деревней собирали продукты на поминки, потом готовили. Опять же всей деревней гроб погрузили в открытый грузовик, а вокруг уселись не только близкие, но все пожилые люди, кто смог уместиться. Остальные ехали на кладбище в каком-то разваливающемся автобусе.
Мне было очень интересно, поэтому я попросила маму разрешить мне поехать на кладбище. Будучи взрослым человеком, я понимаю, почему мама дала согласие. Она тогда еще не занималась хосписом, но уже понимала, что лучше привыкать к восприятию смерти постепенно. Когда тебе три или четыре года, тебе не больно от того, что ты видишь… (Мама Нюты Федермессер — основатель и главврач Первого Московского хосписа Вера Миллионщикова (1942–2010). Прим. ред.)
Потом была первая смерть близкого человека, дедушки. Но мне тогда было шесть лет, и я не смогла осознать, что же действительно произошло. Первая смерть, переживаемая болезненно — уход бабушки. Мне было тринадцать лет (возраст сам по себе ранимый), и бабушку Мусю я очень любила. Я только раз в жизни на нее обиделась, не помню за что, и от обиды написала мелом на белой коробке: «Бабка — дура». В какой-то момент на надпись так упал солнечный луч, что бабушка ее увидела. Она была дама, мягко говоря, с характером и язвительно мне сказала: «Ну что, внученька, вот умру, ведь будешь помнить, как ты бабку дурой назвала».
Сколько лет уж прошло с тех пор, как бабушки не стало, а я действительно помню об этом. Очень жалею, что бабушка умерла, когда мне было 13 лет, а не хотя бы 17 лет, как было на тот момент моей старшей сестре. И очень ценю, что она умерла дома, и дома до похорон оставалась. Мне кажется, что умерший человек должен находиться дома до похорон, чтобы все могли с ним попрощаться.
Первая «хосписная» смерть — когда мне было лет 18 лет, и я работала на выездной службе. Я не была привязана к этому пациенту больше, чем к другим, но он был ко мне привязан.
У меня были каникулы в институте, и я решила уехать отдыхать в ту самую «нашу» деревню в Ярославской области. Планировала — на четыре дня, так и сказала пациенту. Но там было так здорово, что осталась на все две недели каникул. Когда вернулась, он уже умер.
У него была старенькая мама, Агафья Тихоновна, и он писал ей в тетрадочке что-то вроде дневника. Когда я приехала, Агафья Тихоновна, уже похоронившая сына, обиженно протянула мне эту тетрадку, где на каждой странице его корявым почерком из положения лежа было написано: «Когда Нюта вернется? Хочу, чтобы она меня побрила перед смертью, чтобы был побритый, помытый». А я отдыхала в деревне.
И вот здесь — чувство вины, потому что мы все в ответе за тех, кого приручили. И оно никогда не оставляет, и не оставит. Это правильно, потому что конструктивное…
— Как менялось ваше отношение к смерти от первых дней работы до сего дня?
— На самом деле, сейчас я перестала непосредственно с пациентами работать. Работа руководителя благотворительного фонда и работа заместителя главврача, как ни грустно для меня это звучит, это не работа с пациентом бок о бок у его постели. Это работа с бумажками, встречи, письма, печати, отвезти, привезти… Порой забываешь, ради чего все это делается. И чтобы были силы выполнять эту скучную, но необходимую бумагоотчетную и организационную работу, порой надо спускаться на первый этаж, в стационар хосписа, заходить в палату, общаться с родственниками — это питает и дает силы и веру в то, что у бумаготворчества есть цель.
Я стала меньше об этом думать и меньше бояться? Нет. В какие-то периоды больше. Когда у меня родился первый ребенок, я на три года из хосписа фактически выпала. Не могла, не хотела, мне было тяжело. Выросло чувство ответственности за собственную семью, а с ней — страх беды.
Наверное, изменилось понимание масштабов этой беды, после того как я стала работать в онкологии не как сиделка, медсестра или мамина дочь, слушающая ее рассказы, а как руководитель фонда. Абсолютно ушла уверенность в себе и своих силах, вера в то, что сделаешь то, что хочешь сделать. Появилось понимание: делай, что должно, и будь, что будет, изо дня в день. Но никаких планов, никакой уверенности в том, что получится…
Осознание масштабов этой беды не лишило сил, но, наверное, правильно расставило акценты. Я не ставлю перед собой каких-то далеких целей, убавилось амбиций и честолюбия.
Между городом и деревней
— Поколение бабушек покупало заранее «смертную одежду», то есть люди думали, что смерть когда-нибудь коснется и их. Сейчас общество боится думать об этом?
— Во-первых, остается разница между городом и деревней. В той же деревне в Ярославской области оставшиеся редкие старушки как раз думают. Марья Николаевна, когда я была еще маленькая, купила себе гроб. Об этом знала вся деревня. С тех пор прошло лет тридцать, старушке скоро 101 год исполнится…
Memento mori — это то, что и помогает, и мешает жить. Мешает, если доводится до какой-то крайней ступени, если человек боится всего, думая только об этом.
Быть в курсе, что мы все уйдем, очень полезно и городским, и деревенским жителям. Это помогает расставить приоритеты, отделить важное от неважного, легче переживать какие-то сиюминутные житейские проблемы. Если бы я в другой сфере работала, наверное, я бы очень переживала по поводу бытовых неурядиц. Сейчас, когда вижу, как люди из-за какой-то ерунды расстраиваются, думаю: какие же счастливые, Господи!
Культура общения на тему смерти между людьми, культура прощания — вот это ушло, особенно из больших городов.
Еще десять-двадцать лет назад, когда кто-то в подъезде умирал, на похороны приглашался оркестр, на вынос гроба выходили соседи, расставляли яблоки, водку, закуску… Я помню, что в тот день, когда мы хоронили бабушку, на этаж ниже была свадьба. Я плакала и говорила маме: «Как ты можешь тут спокойно стоять и слушать, как люди веселятся, ты же только что маму проводила». Она отвечала: «Нюточка, жизнь-то продолжается».